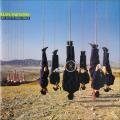-
Сообщений
300 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
И.В.Н. подписался на viktory_0209
-
И.В.Н. подписался на Венцеслава
-
viktory_0209 подписался на И.В.Н.
-
Венцеслава подписался на И.В.Н.
-
"ЗАМУЖЕСТВО МАРИИ БРАУН" Бутч Кэссиди – Железная Фрау Добротный текст, аналитичный, сбалансированный и атмосферный. Определённо лучший в тройке. Ощущается авторское понимание времени, о котором снимает Фассбиндер, прекрасно удаётся препарирование эпохи. Проводятся удачные параллели с литературными героями и киноперсонажами. Замечательно передан ключевой женский образ и разложена его подноготная. Противопоставление Браун – Меркель, ёмкое, острое, красноречивое. Метафоры – красочные и рельефные. Не обошлось без крохотных ляпсусов и передёргиваний. Скарлет О’Хара, по-моему, не из Атланты, а из вымышленного местечка под названием Тара. Германия «перепродалась очередному хозяину» не очень-то дешево – половина Европы порублена в капусту, 4 оккупационные зоны, танки союзников в немецких городах, это вовсе не перепродажа, а, как сказали бы американцы, “shotgun marriage”. Однако мелкие неточности совсем не портят общего впечатления от рецензии и не снижают её ценность. Многие упрекают автора в излишней «диссертационности», но, как по мне, в случае с «Марией Браун» стилистическая серьезность и языковая массивность вполне уместны, ведь само творчество Фассбиндера по-своему монументально и требует основательного отношения. Всегда приветствовал исторический подход к анализу кино, здесь он есть, здесь он вполне релевантный, и это здорово. Курчавый Билл - История Марии Браун, которая (не) любила, да вышла замуж Не большой эксперт по Райнеру Вейнеру, но бескомпромиссное замечание про заядлую феминистичность режиссёра кажется, мягко говоря, поверхностным и безосновательным, что очень больно бьёт по аналитической части текста. Рецензия имеет неслабый налёт морализаторства и шельмования почти советского образца («диагноз режиссёра безжалостно точен», «урок начинающим бизнес-леди»), однако ни Фассбиндера, ни его «Марию Браун» заподозрить в морализаторских устремлениях практически невозможно. Иными словами, это чуждый элемент, привнесенный самим автором. Он здесь удручающе некстати. Текст содержит довольно много заезженных рецензионных штампов, вроде, «на редкость многогранный фильм», «сложный внутренний мир» и т.п. В целом рецензию вряд ли можно назвать удачной. Единственное ощутимое достоинство – это финальная часть, где коротко и образно раскрываются некоторые режиссёрские приёмы. Джесси Джеймс - … Не то чтобы сильно хочется занудствовать по поводу отсутствия названия, но с ним как-то привычнее и эффектнее. Автор сразу заходит с нестандартного и, прямо скажем, опасного ракурса обзора, пытаясь уличить фильм в схематичности и отсутствии глубины. В первых же строках предпринимается попытка обобщить, за что «принято не любить» немецкую культуру. Возникает детский вопрос: кем принято? Если автор таким образом пытается своё собственное презрение к немецкому романтизму, гегельянству и диалектике экстраполировать на всех, то это довольно-таки низкий манипулятивный ход, призванный убедить читателя внутренне согласиться с личными авторскими мыслями без веских оснований. Здесь либо стоило раскрыть причины своего недовольства немецкими ценностями, либо не писать об этом вовсе. Забавно, что автор критикует фильм Фассбиндера за всё, что мне в нём нравится: за мощный социо-исторический символизм, за острую, а вовсе не «грубую», как пишет автор, политическую сатиру, за харизматичную персонификацию нации. Сам по себе критический подход к этому фильму, как и к любому другому, вполне оправдан, но только при достаточных аргументах. А вот их как раз автор не удосуживается представить. И то ли автору просто лениво рыться в историческом контексте (а без раскрытия контекста в «Марии Браун» никак), то ли автор считает этот самый контекст – некоей прописной истиной, которую знают все, однако не оставляет ни единого намёка, знает ли он эту истину сам. Так или иначе, рецензии явственно не хватает твёрдого аналитического начала и доказательной базы, поэтому многие мысли зависают в воздухе. «Двадцатый век убедительно показывает, что без [таланта] вполне можно обойтись». Чем показывает? И почему именно двадцатый, а, скажем, не девятнадцатый или двадцать первый? Похоже, что просто для красного словца. «Проще говоря, все вокруг, затаив дыханье, ждали Фауста, а явился невеликий недо-Гэтсби» Да неужели? А ничего, что апогеем развития т.н. фаустовской цивилизации (по Шпенглеру) обычно называют 12-летие национал-социализма, то есть периода, предшествующего тому времени, которому посвящён фильм. Так что Фауста явно никто не ждал: его загнали в клетку и вбили в грудь осиновый кол, чтобы не дай Бог снова не устроил с Мефистофелем гонки на выживание. Компенсирует аналитические недостатки рецензии – яркий и ловкий авторский стиль, а такие обороты, как например, «прекрасная в своей многоцветности пошлость, обшарпанное барокко по-бюргерски» - выше всяких похвал. Впрочем, думается (если правильно узнал автора, конечно), рецензент скрыл истинную причину своего скептического отношения к «Марии Браун»: едкая, меткая, и по-видимому обидная фассбиндерская шпилька футбольным фанатам и явное издевательство над массовым околофутбольным экстазом. "БАРТОН ФИНК" Джон Уэсли Хардин - … Увесистый и информативный текст, в котором удачно скомпонованы авторские рассуждения о фильме и справочная информация о нём. Несколько озадачивает применение эпитета «лихие 90-е» к голливудским девяностым, странно выглядит упоминание «криминального постмодерна» в связи с «Бартоном Финком», сбивает с толку, зачем автор даёт ссылку на Википедию, ну и отсутствие названия явно не в плюс. В остальном же текст – цельный, динамичный и энциклопедичный, имеющий небольшие стилистические шероховатости, которые практически не сказываются ни на восприятии и ни на общем впечатлении. Концовка – волшебная. Билли Кид - 1408 Залихватский, умный, тонкий текст, где передаются не только коэновские смыслы, но и коэновские ироничные интонации. Не вполне уловил резонность упоминания Ельцина, Холодной войны и Югославии в первом предложении, разве, что для повышения градуса абсурда на ранних подступах к «Бартону Финку». Вот уж чего никогда не задевала фантазия Братьев, так это «американского фронтира» - территории за пределами США. Зато уже со второго абзаца текст выстреливает фейерверком из броских эпитетов и метафор, вроде «глупой воблы воображения» и «маракотовой бездны». Интуитивно кажется, что вот примерно так и следует рецезензировать Коэнов – с десятком аллюзий, с юмористичной подсветкой, с лёгким гусарским пофигизмом. Ведь все фильмы Братьев (за исключением, пожалуй, «Стариков») примерно об одном и том же: мир несуразен, непознаваем и несправедлив, но не стоит по этому поводу сильно заморачиваться. Автор транслирует эту мысль умело и зрелищно, а читать авторский текст – одно удовольствие. Джонни Ринги - Святилище Отсылка к Фолкнеру в названии, и в тексте – зачётная, хотя и нет в коэновском «Финке» - главного, что есть у Фолкнера – ощущения величия и всесилия времени, невыносимой (именно, невыносимой) пошлости бытия. Основное достоинство авторского текста – свежесть и глубина интерпретаций, уверенная и, главное, основательно аргументированная аналитика, за что всегда, в первую очередь, ценю рецензии. Любопытно, что в образе Уильяма Мэйхью автор увидел не только Фолкнера, но и Фитцджеральда. Любопытно, что автор предложил качественно иную, нетривиальную и весьма небеспочвенную версию о том, что же находится в той самой коробке, и что именно олицетворяет собой Чарли Мэдоус, полукарлсон, полуманьяк. Довольно много довелось прочитать по Коэнам в целом и по «Финку», в частности, но подобные трактовки не попадались. Оригинально и убедительно. Одним словом, текст рассудителен и фактурен, занимателен и самобытен. Единственное – очень мрачен и даже где-то пессимистичен, а Коэны – обычно выступают этакими близнецами Бомарше, спешат посмеяться над всем, чтобы не заплакать. Вот если бы ещё и это удалось передать, то цены бы авторской рецензии не было. По личным впечатлениям, тройка «Финка» выступила более брутально и эпично, чем тройка «Браун». В первой тройке – действительно понравилась одна рецензия, во второй – все три. Кто бы ни победил, авторам – добра и творческих удач. Ваши достижения велики и неоспоримы, но нет предела совершенству
-
Всем присутствующим, играющим и ностальгирующим – горячий привет и поздравление с наступающим годом столетия двух революций! Есть ощущение, что год будет богатым на свершения, поэтому всем желаю – двойную порцию удачи и твёрдой веры в свои силы. Все изменения, в конечном счёте, к лучшему, что бы ни случилось. Приятно вновь оказаться в тёплой виртуальной компании тотемных авторов Кинопоиска, хтонических форумных богов и просто отличных ребят. Приятно, что не забываете. Радостно, что со многими знаком лично. Ни одна из наших встреч не прошла бесследно, и все оставили яркие впечатления и тёплые воспоминания. Надеюсь, встретимся ещё не раз и обсудим темы, пока не затронутые во время наших многочасовых словесных баталий в питерских, московских и краснодарских пабах. Анкета Затянуло шальными ветрами (точнее говоря, пригласительным билетом за номером 267 или что-то около того) на ЧРКП-2012 года и проносило по здешним местам вплоть до конца 2013-го. В предыдущие годы прекрасный автор Kreisler пару раз звал заглянуть в Конкурсный раздел форума и разобраться, что к чему, но по разным причинам не срасталось да и навязываться со своим дилетантским опинион-стилем тех дремучих времён, откровенно говоря, не было никакого желания. Покинул Конкурсный раздел в 2014-м году, в первой половине которого ещё жюрил турнир великого и ужасного Лемра, планировал проведение конкурса на исторические кино, но потом работа и быт навалились снежным комом, а реальность, что называется, взяла верх над виртуальностью по гамбургскому счёту. Больше всего, пожалуй, запомнился ЧРКП-2012 – прекрасно организованный и отменно проведенный турнир, кузница творческих кадров – для всего раздела и не только. Тринадцатый год был плодовитым на крепкие турниры: отлично помню Киноглаз Гули и Оранджа с запредельным авторским и опять же организаторским уровнем, Хулиганский конкурс Лемра с запредельной концентрацией юмора и Конкурс фантастики и фэнтэзи Каори, где впервые на моей памяти выступили несколько новых ярких авторов. До сих пор стараюсь не пропускать ни одного текста из тех, что сочиняют Троллинг, Виктори, Мефистик, Аррмен, Муви Эддикт, Орандж, Клозер (он же Фивермайнд). Вот тот пул классных мастеров, чьи работы в львиной доле случаев доставляет и стилем, и содержанием, и смыслом, и атмосферой. Есть авторы, которые запомнились всерьёз и надолго благодаря нескольким могучим текстам. Их тоже отношу к числу талантливых и неординарных рецензентов. Памятные тексты этих авторов: Венцеслава – Эмили Джейн (рецензии на «Лурд», «Бразилию»), Апплик (рецензии на «Криминальное чтиво», «Внутреннюю империю», «Новый кинотеатр Парадизо»), Лемр-Сисеро (рецензия на «Дуэлянтов»), Андрей Александрович («Леопард»), Зангези («Малхолланд Драйв») Лунди (эссе на «Иваново детство»), Каори («Жанна Д’Арк», «Жить»), Den Is («Кочегар»), Крейслер («Антихрист»), Гуля («Вспомнить всё»), Кот («Терминатор») и ранний Чероки времён ЕКР-ов, Дуэлей четырехлетней давности и клозерского Бандитского конкурса конца 2012-го года. Из виртуальных событий запомнились эскапады Ксавериуса в 2012-м, а так же невидимое превращение Лемра в Сисеро, и его фееричное развоплощение - обратно в Лемра. Из невиртуальных, конечно же, встречи, которые ничем не заменишь. Надеюсь, что рано или поздно, несмотря на временный ледниковый период, через год, два, пять, раздел снова превратится в живое и активное поле для творческих состязаний, на котором, как и прежде, будут в изобилии произрастать и пестоваться таланты.
-
Дело в том, что по ходу повествования выглядит так, будто «Выводок» притянут в качестве абстракции, в качестве случайного примера из раннего режиссёрского кинотворчества. Одна, вытянутая из всей фильмографии постановщика лента (к тому же не самая яркая) смотрится недостаточным основанием для того, чтобы делать столь глобальные выводы относительно всего наследия Кроненеберга, которые следуют далее. Иными словами, сопоставление «Паука» непосредственно с «Выводком» - интересно, но обрывочно. Есть в логике и в праве такое понятие – достаточность аргументации или достаточность доказательств, чтобы приравнять некие свойства целого к его части. Так вот система доказательств, на наш взгляд, является весьма ломкой и бренной. Иными словами, необходимы дополнительные аргументы. Не хочется занудствовать, но живой человек, ещё исходя из древнегреческих посылок, это существо двойственное, наделённое телом (то бишь материальным) и духом (то бишь идеальным). В фильме как раз ключевые проблемы Клега – это недуги сознания, а не материи. Переход от материи к идее, который озвучен ниже, не ощущается в фильме, не ощущается и в рецензии. Именно эта путаница мешает выстраиванию крепкой системы логических доводов. Вопрос вызван исключительно тем, что в рецензии нет чёткого разграничения между бытием по Крону и сознанием по Крону. Оттого со стороны всё сказанное смотрится как некий винегрет из понятий родом из различных по специфике и принципиально отличающихся друг от друга философских систем. Салат из квашеной капусты и эктоплазмы. Теперь значительно яснее, что имелось в виду. Но, к сожалению, только теперь. Посылки, конечно, были. Но возвращаясь к ранее сказанному, гипотеза не подкреплена необходимым количеством оснований. Что до объема текста, то, насколько мне известно, ограничений нынче не было. Поэтому почитал бы с «классик-стайловый ад» в исполнении рецензента под ником Чероки с превеликим удовольствием. Потому как, повторюсь, мысли интересные.
- 18 606 ответов
-
- без литья воды
- не флудилка
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
Хотелось бы поздравить рецензентов с попаданием в финальную часть многомесячного турнирного действа. Чувствуется, что бились долго и отчаянно, времени и сил положили уйму, а существующая система выдвижения участников финального соревнования получилась, судя по всему, весьма репрезентативной и исключающей случайности. Иными словами, нет ровным счётом никаких оснований полагать, что в финале оказались не те и не по заслугам. Птица-тройка финалистов явила на этот раз мощный уровень текстов, разительно контрастирующий с некоторыми последними раундами аналогичных по размаху форумных соревнований прошлого. Читать вас интересно, воспринимать ваш стиль приятно, знакомиться с вашими толкованиями природы рецензируемого кино увлекательно, что, по существу, является главным. От прочитанного формируется ощущение, что матчасть проштудирована с должным тщанием, ответственностью, энтузиазмом, критическим анализом и смелым подходом к трактовкам. Отдельные голословные, недостаточно аргументированные или убедительные заявления наблюдаются, но по минимуму. Единственное, что слегка огорчает – это щедрое вживление в рецензии почти прямых и дословных выдержек из разного рода публицистических сетевых заметок на творчество Кроненберга, в частности, из статей на того же «Паука». Понятно, что полностью избежать повторов ранее сказанного на паханное и перепаханное критикой кино, на любимого критикой режиссёра практически невозможно. Понятно, что пресловутые и изрядно затёртые «Фрейд, Кафка, побег от мучительной реальности», как священные мантры, почти автоматически пытаются вклиниться поглубже в текст, когда речь заходит о кинематографическом наследии канадца. Однако есть от этого всё нарастающее чувство протеста, какая-то внутренняя досада от невозможности выйти за пределы обыденных смыслов и почти цоевская тоска по переменам. Впрочем, «инфекционно-паразитические», техноцентрические и «энтомологические» киноработы постмодерниста Кроненберга в значительной степени способствуют смешению всего со всем. Поэтому глубоко вздохнём и приступим к разбору полётов. Эмили Джейн Текст-аура, текст-настроение, текст-эмоция. С превалирующим уклоном в пылкую и обволакивающую эссеистику, что, конечно же, было бы всепобеждающим и всерастворяющим достоинством в глазах смотрящего, если бы не очевидный дефицит аналитического начала и практически абсолютная лишённость каких-либо параллелей или логических мостиков с творчеством режиссёра. Поддерживаю посыл о том, что «Паук» держится особняком в фильмографии Кроненберга, но совсем забывать, что мы имеем дело с одним из самых витиеватых, дерзких и плодовитых рассказчиков в англоговорящей киновселенной, всё же не стоило. Думается, что не стоило так же ударяться в столь вязкое и густое нагнетание меланхолии, царящей в Ист-Энде и в голове у Клега, поскольку пространство Кроненеберга - достаточно скупое на душевные волнения, по-аптечному взвешенное на эмоции. Впрочем, автор об этом говорит под конец последнего абзаца, но как-то сразу уходит в обобщения. Хотя общее ощущение от «Паука», скорее, как от хирургической операционной, чем от «бессловесного, бросающего в дрожь вопля». Так что облако трагического пафоса получилось чуток гипертрофированным. Почему-то кажется, что Умберто Эко, несмотря на очевидную постмодерновость, приплыл сюда из чересчур дальних краёв. Его творчество крайне сложно соотнести с киновотчиной канадского постановщика и, противопоставляя «Имя розы» или «Маятник Фуко» роману Макграта, тем более картине Кроненберга (и уж тем более его фильмографии в целом) следовало выбрать более надежную логическую точку опоры. Потому как смахивает, что итальянец притянут с неба как некий абстрактный символ постмодерна в искусстве. Дежурные и часто поминаемые в связи с фильмом доктор Фрейд и герр Кафка – безмолвными часовыми озираются по сторонам из середины третьего абзаца, к тому же последний появляется в повествовании с туманными целями (нет внятных отсылок к его работам). Понравилось, собственно, другое. Трактовка образа Ральфа Файнса – оригинальна и свежа. Чувствуется, что герой (или актёр) автору близок. Стилистически текст очень мягок и приятно воспринимаем. Пейзажные зарисовки, пусть и несколько избыточны, но в определённой мере вторят пасмурности киносреды. Финальная идея об изжившей себя вечности хоть и представляется крайне спорной в контексте киноканвы, но вписана в рецензию гордо и изящно. В сумме текст очень удачен на уровне переживаний и ощущений. И в значительной степени не доработан на рациональном уровне восприятия. viktory_0209 Здесь – иное. Прямой и твёрдый курс на глубокие аналитические раскопки и вызов шаблонным интерпретациям. При предельно допустимом минимуме атмосферности и различного рода художественно-стилистических красот. Навязчиво кажется, что этакая сухость и академ-стайл с внушительным количеством узко специализированной терминологии и довольно специфической лексики – осознанный волевой выбор рецензента, направленный на кропотливое воссоздание духа медицинско-психиатрического форума заслуженных неофрейдистов. Профессорская холодность свойственна львиной доле режиссёрских произведений, посему подобная манера изложения выглядит очень даже сообразной случаю и выбранному объекту исследования. Вводное погружение в кроненберговщину вызывает аплодисменты благодаря метким и уместным препровождениям к фильмам канадца, даже несмотря на «трансгрессию» и «ограниченную дееспособность». Первая пахнет страницами увесистого философского словаря, вторая пожелтевшим от времени и иммунодефицита Гражданским кодексом. И бог бы с ними, но глаз-подлец цепляется. Очень славное и занятное замечание по поводу изменения величины человека в человеке в зависимости от количества надетой на него одежды. Развивая подобную логику, можно прийти к выводу, что порноактёры и нудисты – самые человечные человеки. Впрочем, в контексте повествования и фабулы, пожалуй, верно подмечено. «Психосоматичность» и психосексуальность» аки очи Саурона зловеще взирают на читателя, давая понять, что дух доктора Зигмунда витает над Землёй незримым спутником, а рецензент ни на шутку увлёкся «Психологией бессознательного». Очень доступно и обоснованно аргументируется, почему всё же кронеберговский Фрейд наступил на горло кроненберговскому же Беккету и, вообще, железобетонная аргументация и солидная аналитическая база, скрупулёзно накопленная, должным образом презентованная и пропущенная сквозь призму авторского восприятия - ключевая отличительная черта этой работы. Линч тут правда присутствует исключительно как крёстный отец роковых женщин-близняшек с разным цветом волос. С какими-либо иными фирменными трюками Кроненберга фокусы Линча довольно тяжело соотнести. Всё же два чрезвычайно разновекторных кинематографиста. Хотя в качестве далёкого противоположного полюса для сравнений главный голливудский сюрреалист очень даже приемлем в случае с «Пауком». В конце присутствует органичные аллюзии на «Начало» и «Шоссе» и к месту поминается дебютная полнометражка Балабанова. Вот только Фрейд опопсел довольно рано – ещё в период своей бурной деятельности. По-моему, Набоков глумился над его теорией, называя психоанализ – прикладыванием древнегреческих мифов к половым органам. А Карл Поппер заклеймил фрейдизм популярной лженаучной фальсификацией. Обобщённо о работе следует сказать следующее: рецензия при незначительном числе колючестей и шероховатостей пускается в смелый эксперимент – на финальном и наиболее ответственном этапе не пытается преподнести излюбленный зрителями и критиками фильм с исключительно позитивной стороны. Наоборот, подвергает серьезному сомнению ряд устоявшихся стереотипов относительно произведения и в конечном итоге формирует свою оригинальную концепцию восприятия картины Кроненберга. В этом видится первейшая задача киноаналитика, с которой рецензент справляется с завидной творческой наглостью и изобретательностью. За что автору – честь, хвала и доброе напутственное слово: Жгите глаголом, Виктория Олеговна. Вы и не на такое способны. cherocky Автором предпринята внушительная и мужественная попытка представить на суд читателя симбиоз художественности и аналитики. Вводная часть – одна сплошная картина маслом с ёмкими выпирающими образами и старательно выписанными деталями. Отсылка к кукушкиной психушечке пусть и сомнительна по части корреляции фильма Формана с картиной Кроненберга, но тем не менее она как нельзя лучше настраивает на то, что мы имеем дело с плёнкой про безумный, безумный, безумный мир. «Конвульсивная фиксация каракулями» малость настораживает и воскрешает в памяти старый-добрый лурк-сленг с его «чудотворными певцами ртом» вперемешку с «гуманитарным синдромом мышления». Впрочем, взвешенная ироничность повествования, уходящая корнями в волобуйство, издавна свойственна автору. Безукоризненно следуя выбранному задорному стилю изложения, автор то тут, то там подкидывает различного рода лулзы, вроде враждебных хлопьев тумана, бармена, ремаркой закрывающего гештальт, и экзистенциональной Бастилии. Всё это, несомненно, придаёт яркости и забористости тексту, однако лишь в малой степени проливает свет на изнанку происходящего по ту сторону экрана. Иными словами, в первой части авторской работы образность переиграла аналитику, пусть и с минимальным счётом. Фрейда (который, глядя на нас откуда-то сверху, вероятно, одобрительно хмыкает) тут, однако ж, относительно немного и это не может не радовать. «Всамделишный живописец ментальных шрамов» - явный смысловой перебор да и звучит лексически избыточно. На счёт поливариантности концовок «Мухи» - тезис выглядит сыроватым и должным образом не расшифрованным. Хотя в целом сравнение первоисточника с экранизацией вышло обстоятельным и насыщенным рельефными отсылками. На заключительной стадии автор упорно стремится вписать «Паука» в контекст творчества Кроненберга, однако система аргументации не выглядит стройной и достаточной. Детская страсть постановщика к различного рода ползучим тварям и паразитам – довод довольно поверхностный. Навязчивость некой «арахнологической метафоры», о которой упоминается лишь вскользь, так же не имеет чётко прослеживаемой связи с фильмографией канадского мастера. Далее идёт великолепный и филигранно встроенный посыл о «страсти к Реальному». От этого тезиса прокладывается ровная и прямая дорожка к первой половине творчества режиссёра. Однако, когда автор старается свести логические мостики между ранними фильмами режиссёра и объектом рецензирования, почему-то приводя в пример именно «Выводок», вся аналитическая конструкция становится неимоверно хрупкой и рассыпается от малейшего прикосновения, вызывая массу вопросов. Почему Клег – кусок материи да ещё и с изъяном (кстати, испорченная материя - это что-то новенькое для материалистической картины мира), а не, скажем, самопротиворечивая идея? По какой причине всего лишь одна, должным образом не обоснованная мысль первоисточника «прекрасно резонирует» со всей фильмографией? А уж космический постулат про высшую миссию творчества Кроненберга – «деконструкцию человека минувшего столетия» - требует по меньшей мере парочку доказательств, вместо этого имеет место лишь голый и от того беззащитный тезис. «Элиминация телесности» воскрешает в памяти Дитца. Определение фильма как «беспримесной психологической драмы» несколько расходится с тем, о чём автор говорил ранее, упоминая про «хичкоковский саспенс-постулат». Тяжело отрицать, что элемент триллера в фильме имеется и не малый. Называть всё последующее творчество Кроненберга исключительно жанровым кино довольно опрометчиво. Концовка же ещё раз доказывает: несмотря на то, что ТроллингСтоуна уже год как нет в разделе, его призрачная тень всё ещё кружится неподалёку и подсказывает рецензентам минорные мысли о судьбах планеты и обречённого человечества. Однако, несмотря на привычность напускного пессимизма, весь этот рецензионный блюз и страсть к апокалиптике имеет какую-то почти байроновскую притягательность. И смотрится отчаянно красиво, чёрт возьми. Грех не вспомнить про того же Фрейда с его Танатосом, а так же пренебрегаемого всеми лётчика-испытателя (ибо, наверное, ещё большая попса, чем Фрейд), который как-то задолго до основателя психоанализа молвил: «Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья - бессмертья, может быть, залог, и счастлив тот, кто средь волненья их обретать и ведать мог». Благодарю за внимание.
-
viktory_0209 На краю рая Не могу сказать, что являюсь большим любителем Акина, Турции и душевной социальщины а-ля «Сука любовь». Не могу сказать, что фильм «На краю рая» - это глубокое проникновение в затейливые закоулки европейского социогенеза. Но могу сказать наверняка, что текущая рецензия являет собой тот сферический максимум, который в принципе можно ожидать от письменного художественного киноанализа величиной в 850 слов. Не хочу ударяться в хвалебные словеса и потоки комплиментов, которых звучало и прозвучит ещё множество. Но отмечу лишь, что если это не вершина конкурсной эволюции рецензента по имени Виктория Г., то далее следует ожидать покорение околоземных пространств, а затем и неизведанных космических далей, куда не ступала нога человека. Впрочем, нет предела совершенству, и нельзя отрицать, что творчество (а кинорецензирование как ни крути, но всё-таки творчество пусть и с приставкой микро-) – это своего рода зеркало, где каждый так или иначе видит и ощущает себя. caory Законы привлекательности Здоровая, нахрапистая, профессиональная творческая агрессия в рамках заданной тематики. Где-то слегка наигранная, где-то чертовски убедительная. В любом случае театральный пафос и намеренное раздувание ненависти к объекту не выглядят чем-то инородным, а наоборот, вполне органично вписываются в изначально выбранную критическую плоскость. Тем не менее, в угоду неукоснительного следования концепции рецензент кое-где чуть перегибает палку. Автор упрекает режиссёра в том, что он – никчемный женский психолог, тогда как над сценарием, вроде как, трудился дуэт из представителей обоих полов. Ким Чен Ир тут аки гвоздь программы, юмор более чем меткий и удачный. Занятно, однако, что автор устроил тёмную всем - от постановщика до Джулианны Мур, однако авторская рука не поднялась на умницу и душевного парня Пирса Броснана. Вот что значит истинно бондовское обаяние и зашкаливающий градус джентельменства, покоряющий сердца. В общей сложности сентиментальный и очень миловидный хейт получился. kinozlodey-ру Неживые Рецензирование никому не известной скандинавской короткометражки на текущем этапе соревнования - это одно из двух, либо подвиг, либо судьба. Автор изначально взял на вооружение саркастичный тон, которым управляется довольно ловко и проворно. Думается, что подобный тон – самый подходящий для препарирования кинотворений рассматриваемого жанра. Однако оборотная сторона используемой языковой методы – наличие стилистических штампов, которых полностью избежать автору всё же не удалось. Работа хороша, прежде всего, своими примечательными наблюдениями. Очень удачное замечание касательно отношения к зомбоэпидемии в львиной доле хорроров не как к болезни, а как к проклятью. Соглашусь, пожалуй, что это настораживает и заставляет заподозрить кинобомонд в латентном зомбошвинизме. Весьма гармоничный баланс презентации сюжетных моментов, социальной подоплёки и авторского отношения к происходящему на экране. Пожалуй, что и анализ шведской короткой ленты в контексте последних достижений жанра в последнем абзаце вполне уместен, интересен и по-своему пытлив. Единственной претензией к работе, пожалуй, является наличие самоповторов. В частности, конец второго абзаца сильно напоминает конец третьего. Понятно, что короткометражка, понятно, что не очень много проблем для анализа всплывает, но всё же можно было постараться обойтись без реприз. Эмили Джейн Разбойник Варавва Всякий раз в моменты больших Чемпионатов замечаю за Славой удивительную способность. Когда до финала остаются считанные дни, когда стрелки на часах показывают без пяти минут полночь, а где-то в чаще начинает ухать филин, что-то кардинально меняется в стилистике авторского изложения, форма расцветает красками, содержание обретает крепкий, почти твердокаменный аналитический фундамент, тексты становятся яркими, запоминающимися и антишаблонными. Текущая рецензия не служит исключением – искрится художественными красотами, фонтанирует идеями, наглядно демонстрирует безукоризненное знание предмета. Богатый социо-исторический пласт, представленный в работе, просто идеально коррелирует с прочной киноаналитикой. Единственное, что могу поставить даже не в упрёк, а в небольшое замечание к рецензии – это отсутствие взгляда современного человека на продукт эпохи 1960-х. Всё же пеплум – это настолько быстро теряющий актуальность жанр, что большая часть тех произведений прошлых эпох, которые довелось посмотреть, выглядят скорее наивно, патетично и шероховато, чем не особенно способствуют серьезным размышлениям на исторические темы. Впрочем, это сугубо личное. =Кот= Золотая молодежь Концепция – гордая, структура – стройная, всё на месте, всё, как надо. Если и есть претензии к качеству, то они сугубо мелкого пошиба. Как например, почему в Англии портрет Муссолини должен продаваться лучше, чем фотографии с вечеринок? Понятно, что отсылка к киноканве, но со стороны выглядит неясно и весьма туманно. Интересно, что автор не прибегает к, казалось бы, самим собой напрашивающимся параллелям с «Гэтсби» и Феллини. Это, скорее, даже в плюс, чем в минус, поскольку подобные «классические» сравнения зачастую смотрятся довольно зашоренно. Хотя в последнем абзаце автор всё же не в силах удержаться от популярного сравнения с «потерянным поколением», что, на наш взгляд, не столько не логично, сколько довольно притворно и даже ошибочно. Сколько их было в XX веке этих потерянных поколений? Если присмотреться к результатам социальных действий этих поколений, то невольно приходишь к выводу – никто в массе никуда не потерялся. От стаи отбились лишь единицы. Между тем, свои белые вороны у любой поколенческой тусовки были во все времена.
-
Почтенные соратники по творческим экзерсисам и поискам глубокого смысла между пикселями голубых экранов. Рад снова оказаться ненадолго в вашей теплой компании и, как умею, изложить свои взгляды на разворачивающийся пир духа, праздник острых перьев и фестиваль честолюбиво щёлкающих клавиатур. В минуты редкого досуга имел удовольствие наблюдать за разгорающимся противостоянием и сделал для себя два вывода: 1). Реальность стремительно меняется, однополярный мир рушится, рубль с бульканьем уходит всё глубже, социальная паранойя нарастает снежным комом, а Конкурсный раздел в целом, и ЧРКП, в частности, живее всех живых стараниями нескольких энтузиастов, имена которых слишком известны, чтобы их называть. Это не может не вызывать искреннюю радость, всецелое одобрение и уверенность в том, что есть ещё постоянные величины в этом хрупком и тревожном пространстве; 2). Тот самый пресловутый «общий уровень текстов», о котором заходит речь всякий раз, когда сравниваются между собой два Чемпионата (прежний и нынешний), стал, ощутимо, куда более высоким, куда более твёрдым в сравнении с теми глобальными конкурсными мероприятиями прошлого и позапрошлого годов, в которых довелось поучаствовать. Главным образом, за счёт наработанного временем профессионализма и отточенного годами мастерства. Однако профессионализм далеко не всегда равен талантливости (тем более уникальности), а талантливость, в свою очередь, не всегда подразумевает профессионализм. Титаник, как известно, построен профессионалами, а Ноев Ковчег – любителем. Не поймите меня неправильно, но в этом соревновании (с верхушкой рейтинга авторских работ всё же ознакомиться удалось) увидел множество качественных и сверхкачественных кинорецензий и гораздо меньшее количество таких творческих работ, которые врезаются в память и оседают в ней на долгое-долгое время. Быть может, виной тому замыленность или зашоренность личного восприятия, быть может, усталость, быть может, наоборот, хорошая память, которая, как говорят, хуже, чем сифилис. В любом случае пожелаю Разделу при всей сложности процесса и банальности слов, которые сейчас прозвучат - активного поиска и нахождения новых творческих форм, пренебрежения к классическим шаблонам и устоявшимся рецензионным рамкам, желания и умения экспериментировать. Поскольку, как по мне, куда более интересно в последнее время читать добротную пусть и не слишком мастеровитую эссеистику по мотивам кинокартин, чем размашистые и выпестованные до мелочей классические кинорецензии, имя которым легион, цена которым грош, ибо в подавляющем большинстве случаев осетрина далеко не первой свежести. gone_boating Гигант Непосвященным взглядом, фактически сходу прочитывается размах и масштаб рецензии, погружающей в межличностные и социальные конфликты Техаса времён рёва 1920-х и рассвета американского капитализма. Из тех фильмов-эпопей, что берут за основы современные судьбы штата падших ковбоев и торжествующих нефтевышек, почему-то машинально вспоминается «Последний киносеанс» Богдановича. Автор его не поминает, ну и, правильно, хотя, вроде бы, некоторые, пускай и незначительные, параллели прослеживаются. Рецензия под стать названию и хронометражу фильма отдаёт гигантизмом и желанием объять если не всё, то почти всё. В этой попытке окинуть взором максимум ипостасей, видится некоторый излишек, особенно в той части, где автор скопом складывает друг на дружку все проблемы, которые поднимаются в кинокартине: «стремление к достижению Американской мечты и цена, которую за неё платят, иммиграция и борьба против расизма». Просто-напросто собранные темы, как будто, из разных смысловых эшелонов, и одновременное их поминание не вписывается в общую повествовательную стезю. Иными словами, не больно-то перечисленные явления коррелируют между собой. От текста веет традиционностью, классичностью, даже академичностью, как от рукописных оригиналов критических заметок Белинского и Писарева. В этом, быть может, и нет никакой погрешности, особенно взяв в расчёт возраст фильма и его культурно-историческое значение. Однако, читая текст, часто ловил себя на мысли, что знакомлюсь с содержательной, умело написанной и фактурной заметкой о ветхом антикварном экспонате, который стоит в одном из центральных залов Метрополитен-музея. Отсюда некоторый, местами излишний трепет в обращении с объектом. Хотя, конечно, концовка, позволяющая себе домыслить актёрское будущее Джеймса Дина и живо описывающая его трагический финал, всё же ставит текст на иной, более искусный и изящный стилистический ярус. Ригоша Чудотворная Сюжетная составляющая в рецензии проработана скрупулёзно, почти детально. Так что лики челобитных старух, гордой советизированной училки и мечущегося меж двух огней ленинца-младенца явственно встают перед глазами. Крайне любопытна и нестандартна сравнительная параллель: Фицджеральд – Скуйбин. Смело, лихо и, наверное, очень бы польстило тов. Скуйбину, кабы он был с нами. Хорошо, что содержание ленты разобрано с таким эмоциональным накалом, красноречьем и усердием. Это придаёт рецензии на ч\б кино совершенно не свойственных ему красок, что, несомненно, в плюс. Не очень хорошо, что рецензия всецело концентрируется только на сюжете, и ни слова не произносится о каких-либо особенностях творческого метода режиссёра. Хорошо, что есть колоритные трактовки и оригинальные сопоставления. Не очень хорошо, что фактически упущен из виду социально-исторический контекст создания произведения. Ведь так называемая Оттепель в духовной жизни советского общества совпала по времени с периодом не намного менее лютого богоборчества, чем в 1920-1930-е гг. (единственное - без расстрелов священнослужителей, в остальном всё то же). С другой стороны, интересным бы выглядел анализ с точки зрения развития (или вырождения) соцреализма в кино. Господь, который напоминает Всадников Апокалипсиса, да еще и всех сразу, и в речевом плане и в логическом как-то немножко не на месте расположился. Остракизму, которому автор подвергает фильм и режиссёра в последнем абзаце, уделено недостаточно пространства в сравнении с разложением сюжета по полочкам. Не представляется возможным понять или прочувствовать, почему автор по отношению к фильму настроен, скорее, нейтрально, чем отрицательно. Ведь по факту заключительная часть рецензии бьёт наотмашь, не оставляя Скуйбину с его скукоживаниями и раковинами ни малейшего шанса. Иными словами, тексту не хватает умозаключений, не хватает личностного авторского начала, ясно выраженного через финальные выводы и в конечном счёте определяющего мнение о рецензируемом фильме. Поэтому кажется, что при фактически идеальной проработке содержательной составляющей, итоговые, цементирующие текст мысли высказываются менее выразительно и более прижимисто. Alex McLydy Бумажная луна Отсутствие заголовка невыразимой печалью режет по сердцу. Живописный первый абзац выполнен в духе романтической и идеалистической эссеистики, что придаёт тексту какое-то своё особенное притяжение. К сожалению, со второго абзаца начинается резкий переход к классицизму и мостики к нему, увы, не проложены должным образом. Ситуацию несколько усугубляет ещё и то, что к содержательной составляющей появляется ряд вопросов. Например, почему 1970-е так стойко ассоциируются с дыханием кинематографа? Почему не 1960-е (Новая волна, Спагетти-вестерны), не 1950-е (Хичкоковский пик) и не 90-е (Сращивание национальных киновселенных), например? То есть в принципе в подобном ключе можно высказаться о любом десятилетии кинематографа. Обращение к режиссёру по имени, конечно, очень по-свойски и придаёт домашнего уюта, однако одновременно отдаёт лёгкой степенью фамильярности. По какой причине автор так уверенно говорит, что кино Богдановича будут смотреть «ещё несколько следующих поколений» зрителей? Не секрет ведь, что кино – искусство, которое стареет чрезвычайно быстро. Энергия теряется, как говаривал Балабанов. Зачем автор с такой категоричностью равняет под ноль современный кинематограф в сравнении с его славным прошлым? Был шлак вчера, есть шлак и сегодня. Уникальных художественных творений во все времена было относительно немного. С какой целью автор унижает потенциального зрителя, называя его «ротозеем у экрана»? Как замечательна рецензия в создании настроенческого поля в начале, так же блекла она в трансляции той толики смыслов кинопроизведения, которые стремится передать автор. На выходе понятно, что кино – дорожное и то, которое прямо-таки жизненно требуется посмотреть всем, кто любит cinema as is. О сути фильма, к сожалению, мизерно мало. И под конец всё же чрезвычайно утомляет навязчивое авторское желание прорекламировать фильм для конкретной целевой аудитории – поклонников «комиксов и антиутопий». Хотя опять же непонятно – почему эти два рода кинопродуктов оказались в одном, надо полагать, сугубо презираемом автором смысловом ряду. Ауре первого и третьего абзацев – твёрдое и решительное - да. Остальному, скорее, нет. Chester_Bennington Олененок Интересно, что автор пишет рецензию цвета летней берёзовой листвы, а ощущение от неё как от классического нейтрального, предельно обтекаемого серого текста. Как изгалялся однажды герой любимого нашего Никиты Сергеича – ни бородёнки, ни усов – зацепиться не за что. Автор несколько раз поминает и подчёркивает тот факт, что фильм снят для зелёной молодежи. Подобные репризы далеко не лучшим образом сказываются на восприятии рецензии и понимании её концепции, поскольку сам процесс чтения весьма наскучивает. Случаются смысловые неточности, как то: «хотя и рассчитана по большей части на юношескую аудиторию, содержит немало интересных тем, раскрытых в доступной, не слишком поверхностной манере». Слово «доступной» здесь как будто бы лишнее. Предложение с вечной цитатой из «Маленького принца» несёт сомнительную смысловую нагрузку и отдаёт ветхой прозаичностью, куда более ветхой, чем повесть Экзюпери. Длина текста так же несколько обескураживает, думается, что во многом именно поэтому последний абзац полнится самоповторами. Иначе говоря, текст сух, академичен, интересен рельефным воссозданием некоторых сюжетных аспектов, однако в целом очень уж инертен и лишен авторского «Я», которое зависает над схваткой аккурат между «грозным медведем», «засаженной кукурузой» и невозможностью изменить «сущность оленя». Lehmr Сало, или 120 дней Содома Не могу не отдать должное и не адресовать почтительный поклон авторским лексическим вывертам, тем более, что они колошматят по историческим личностям, неколебимым творческим кинореалиям, философским терминам и свершениям с невыразимой пролетарской яростью и самозабвением, отчего невольно ловишь себя на преступной мысли, что автор искренен в своих выкладках. Хотя это, конечно же, не так и, зная более ранние труды господина, скрывающегося под гордым ником, прекрасно осознаёшь, что рецензент вновь занимается бесстрашной в той же мере, в коей безрассудной, стилевой акробатикой. Довольно искусной, достаточно концептуальной, безусловно оригинальной, несмотря на мозаичность содержания и демонстративно пренебрежительное отношение к устоявшимся табу кинорецензирования, из чего самым безобидным является наличие «Я» в тексте. «Гомокоммунист», «замусолиненный» и «квазиницшенаство» - неологизмы, за которые, пожалуй, крепко пожал бы руку сам Лев Владимирович Щерба. Порой в тексте случайно обнаруживаешь классические проявления приснопамятного Дитц-стайла, то есть неоправданные наукообразные усложнения («категорический императив ощутить…», «асексуальные перверсии»), однако в отличие от помянутого рецензента, конечная цель их внедрения воспринимается всё же более отчётливо. Нельзя сказать, что рецензию портит тот факт, что она, судя по всему, носит собирательный характер – активно пользует и бессовестно эксплуатирует идеи, ранее неоднократно звучавшие относительно рассматриваемого произведения. Поскольку разной степенью заимствований (намеренных или случайных) так или иначе грешат все, кто взваливает на себя роль анализа всемирно известных произведений сорокалетней выдержки. Изрядную долю вины за умышленно разорванную структуру, за местами изуродованные словоформы, за невыраженную толком и толком не обоснованную точку зрения относительно кинотворения автор снимает с себя, когда вводит фееричный последний абзац, который, кстати сказать, по смыслу зычно перекликается с последним абзацем рецензии Крейслера двухгодовой давности на «Антихриста». Керуаковщина и джимморрисоновщина заключительной части – это как раз та деталь, которая служит и дисклеймером, и вишенкой на торте одновременно. Из чего делаем вывод, что автор соорудил нечто, если не новое, то по крайней мере весьма экзотичное. А за экзотичность принято выделять надбавки.
-
Собственно, звёздный путь некоего Сисеро, который феерично решил самослиться в полуфинале Ч-2013, и уйма более ранних конкурсных регалий недвусмысленно на это намекают. Ну, коль попутные ветра занесут в Первопрестольную или в Пальмиру (что, пожалуй, даже лучше, поскольку частенько там бываю) непременно сигнализируйте. С превеликим удовольствием побеседую о том, о сём. Уверен, что ассамблея в честь такого события будет иметь внушительное представительство коренных) Ровно наполовину. По отчеству. Вообще говоря, редакция Первого канала была когда-то не настолько тоталитарная, как её малюют. Вопросов познеровским собеседникам задавал множество, но до адресата в неизменном виде дошёл ровно 1 (первый вопрос). Лукавый Борис Борисыч выкрутился, как обычно. Но песня «Губернатор» всё расставила по местам) Кстати, опросник Пруста тоже моих рук дело Вика, искренне тронут всем сказанным. Знаешь, если бы не ты, вряд ли, бы посетил Питер так скоро, открыл бы для себя его монументальную красоту и прочувствовал его величественную, ни с чём не сравнимую атмосферу. От души тебе желаю ещё более недосягаемого творческого роста (пространство для него, как ты сама говоришь, есть) и долгожданной, заслуженного восхождения к виктории в крупном Чемпионате, который, надеюсь, в той или иной форме состоится и в котором, ещё сильнее надеюсь, ты примешь участие. Больших тебе побед и беспосадочного полёта музы. Счастлив, что встретился с тобой. Дима, спасибо за множество тёплых слов. Конкурс в память о Балабанове, действительно, был проникновенным и каким-то очень тёплым, эмоциональным, искренним, несмотря на камерность. Внезапный уход Алексея Октябриновича воспринял, как личную утрату, может быть, поэтому всё получилось так, как получилось. Будем надеяться, что удастся провести соревнование со схожей аурой, но не по такому грустному поводу. Удачи на полях конкурсных сражений! Слава, благодарю за бинокль. Он, определённо, пригодится) Вообще, про собственное растроение личности слышу впервые. Невольно вспомнился седовласый анекдот о том, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это четыре разных человека. Окажешься в наших краях – пиши. Буду рад вновь пообщаться обо всём на свете
-
Эти встречи, емнип, посетило абсолютное большинство самых могучих авторов раздела. За исключением Лемра и Чероки. Но, надеюсь, они таки почтят своим присутствием столицы) Салют) Поздно. На мэйле лавочку прикрыли. На твиттере объект не столь податлив.
-
Приветствие всем празднующим и отдыхающим, разделу – долгих и славных лет, всех и всяческих благ, широкомасштабных и амбициозных начинаний, глубоких и умных постояльцев. Так случилось, что на форуме зарегистрировался по банальнейшей причине: в декабре 2009 года пожелал высказать своё «фи» кэмероновскому «Аватару», увидел тучи и горы разнокалиберных мнений, вереницы споров разной степени повторяемости и холиварности, решил, что добавить особенно нечего, сморозил какую-то на редкость тривиальную тривию, не стал ввязываться в долгоиграющую дискуссию и был таков на 2,5 года. Работал, троллил блог Соловьева на мэйле.ру, задавал вечные вопросы гостям передачи «Познер», мастерил дубинки из бамбука, курил фимиам, участвовал в различного рода словесных историко-политических мясорубках на пространствах рунета, рассекал по рок-фестивалям нашей необъятной, попадал на развороты журнала «Эксперт», гонял павианов в Южном Судане, изредка пописывая рецензии на КП. Ровно до тех самых пор, пока на моё имя не поступило заманчивое предложение (пригласительный билет под знаковым номером четыреста с чем-то), от которого довольно сложно было отказаться, поскольку казалось любопытным испытать свои литературные потуги на живых людях с собственным выраженным и сформулированным мнением, а не на ставших привычными минусовальщиках и плюсовальщиках КП, которые, вообще, редко писали в личку, а если и высказывались, то ограничивались чем-нибудь наподобие «болван» или «браво». ЧРКП-2012 выдался на редкость увлекательным и памятным действом, поэтому сейчас нисколько не жалею, что жертвовал ради него ночным сном, дневным тонусом и трудовой производительностью. До сих пор вспоминается множество отменных текстов того достославного турнира, в частности, рецензия-эссе Крейслера на триеровского «Антихриста» (емнип, лучший текст чемпионата), практически все дофинальные работы Андалусии (от «Терминатора» до «Вспомнить всё»), ну и объёмное рецензионное творчество Троллинга, конечно, который в той или иной степени давал литературный мастер-класс нью-вейву 2012 и привнёс ряд стилистических особенностей в творчество многих здесь присутствующих. Отчётливо помню хамско-краснобайские комментарии Ксавериуса (при этом почти не помню его работ), конструктивно-благожелательные фидбэки Лемра, Угара, Гули, Оранджа, Трублада, придирчиво-прохладные, но не менее конструктивные отклики Мефа и Аррмена, экспрессивные комментарии Славы. Пожалуй, именно «ЧРКП-2012» и «Киноглаз» Гули и Тараса стали во истину эпичными мероприятиями, которые и сегодня вызывают исключительно тёплые чувства. Впрочем, и «Бандитский конкурс» Лемра, и боевиковый конкурс Фивера, и фантастико-фэнтэзийный конкурс Каори тоже стали исключительно приятным времяпрепровождением. Из своих работ удачными считаю «Брата», доконкурсного «Фауста» и «Однажды на Диком Западе». Встречал на КП и в сети частичные рерайты этих текстов, что забавно и, наверное, само по себе неплохо. По части творческих предпочтений, думаю, не секрет, что, помимо текстов Троллинга, являюсь поклонником рецензий Виктории (которая с весны прошлого года просто разучилась писать легковесные очерки, начисто ушла былая ветреность, пришла глубоководность вкупе с исключительным литературным мастерством и обаянием слога), люблю тексты раннего («Хрусталёв, машину», кубрикиада) и позднего (Герц Франк, Бунюэль) Оранджа, Фивера, Апплика, которые, случается, перечитываю и жалею, что не могу поставить им ещё один «плюс». В последнее время (хотя точнее будет сказать в последний год) совершенно прекрасные рецензии пишет Дима (=Кот=). Хотя у многих постоянных авторов раздела (Лемр, Чероки, Каори, Слава, Арми) есть несколько любимых текстов. Ныне крайне редко заглядываю на конкурсные просторы и не посещаю местные вечеринки по причине пресловутой нехватки времени. Однако обязательно постараюсь помочь претворить в жизнь идею конкурса на историческое кино, когда и если дойдёт очередь. В словесных баталиях и форумном общении участвовал довольно-таки нечасто по той простой причине, что с некоторого момента жизни предпочитаю личное общение - виртуальному, камерные посиделки – большой тусовке. Но столичные и северностоличные КП-встречи, на которых периодически собирается цвет, ум, честь и совесть раздела – события особого рода, где удалось воочию познакомиться и пообщаться со множеством замечательных, интересных, глубоких людей, что, несомненно, доказывает: конкурсное творчество на здешнем форуме увлекает личностей совершенно незаурядных и ярких. Поэтому ещё раз всем и каждому – больших творческих удач, Славе – терпения, понимания, открытости новым идеям (чего, впрочем, не занимать), Сергея – с прошедшим Днём Рожденья. Не всякому дано родиться в один день с этим человеком – Учитывая тягу к литературному созиданию, сие, определённо, неспроста
-
Грянул час, дабы проявить запредельную мелочность, въедливость и дотошность, откопать из чулана и расчехлить старый-престарый микроскоп, ибо на дворе противостояние двух архиуспешных колдуний слова, архиудачливых вещательниц универсальных истин для разномастной, многоглавой аудитории и вдобавок обладательниц многочисленных призов читательских симпатий, а значит вся стать – вооружить глаз, пристально всмотреться в начертанные письмена и дать оценку творческим деяниям народных избранниц. К слову, фильм Куросавы «Сны» просмотрен специально по случаю финального противостояния двух валькирий, реющих над полем битвы, усеянной бездыханными телами противников, томящихся под небом голубым. Финалу же, учитывая выбранную тематику, подобает посвятить парочку хокку: И солнце светит, и растёт трава, и рожь колосится, Но притупившийся клинок не покинет ножен, И слеза предательски скользнёт по щеке самурая или Струны сямисэна сплелись в музыке чудной. Фудзи чуть видна на горизонте. Листья сакуры колышутся едва Впрочем, не время витийствовать, пора приступать. Attention! Будем жестоки и беспощадны, ведь с финалиста, как заведено, спрос особый, а ожидания от качества кинорецензий высоки настолько, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Посему – да поможет вам Будда (или Аматерасу, кому, кто больше по душе). Белая королева Форма\Структура Вежливость у благочестивых обитателей загадочного архипелага – сродни философии жизни. Посему обращение на «ты» к незнакомому, или полузнакомому человеку, тем более, если он много старше – моветон ужаснейший, подобный оскорблению. И ведь подозревает же читатель, что он не бродил по полю одуванчиков-уродов, не отгонял ядовитые облака и не получал Оскар за фильм «Дерсу Узала», а значит не Акира-сан. Зачем ему об этом напоминать лишний раз? Ведь может развиться комплекс заискивающего благоговения пред гением. Изнанка снов и лисьи лапки – изящно, со вкусом. И переход от гнева кицунэ к снам – очень и очень прилежен, ухожен, непринуждён и причёсан, словно японский садик. «Устающие декорации»? Велик и чуден киномастер страны восходящей звезды, но, чтобы утомить декорацию – надобно очень сильно постараться. Реприза «лицом к лицу» во втором абзаце – явно предумышленна, но оправдана ли? Всё-таки кажется, что транслируемая мысль не больно-то стоит предложенной тавтологии. Не менее спорным выглядит сперва упоминание, а затем, пару предложений спустя, возвращение к описанию эпизода с загримированным под Ван Гога Мартином нашим Скорсезе. Иными словами, дубль странен и смотрится на сравнительно сжатом текстовом пространстве довольно-таки излишним. По структуре - текстовые мазки, вполне импрессионистские по духу, которые, сливаясь, образуют нечто, логически связное. В отдельности же – сумбурные и расплывчатые пятна. В особенности для того, кто не имеет представления о сабже. Но знакомому с киноматериалом, думается, такая форма вполне импонирует. Имеются ловко схваченные и нефальшиво пропетые нотки мелодии самого японского мэтра. Подача материала воплощает попытку создать некое созвучие с произведением Куросавы. Нахожу эту попытку, скорее, удачной. И похвально экспериментаторской. Содержание\Идея Сэлинджер – это, конечно, прекрасно, это, конечно, по-нашему, даже если это и не Сэлинджер вовсе, а слегка подкрученный Холденом Колфилдом шотландский стихотворец Роберт Бёрнс. Причём русский перевод в данном случае, надо сказать, оставляет желать лучшего. Так что первый идейный вброс какой-то блекловатый, не совсем сэлинджеровский и связанный с фабулой постольку-поскольку. Справедливости ради отметим, что куртка у японца, который пытается отмахнуть радиоактивные облака от двух несчастных детей, не джинсовая, а болоньевая. Пусть мелочная мелочь, но в финале нет места даже таким вот нюансам. Первый абзац википедичен, но, в общем, довольно мило обработан, поэтому роль первоисточника предъявленных выкладок не столь важна. Наблюдения с водой и танцами, появление которых вторит годам сновидца – свежие, достаточно неожиданные, а, значит, представляют собой несомненную авторскую находку. Радует великолепное, тонкое авторское аналитическое замечание по поводу ускорения снов – раскручивания маховика времени. И на счёт ослабления сопричастности человека к происходящему вокруг – тоже хорошо. Мысли новые, мысли интересные. «Прикосновение черноволосой метели» рядом с «лисьим клинком» не вполне ясно и недостаточно выверено с точки зрения донесения той мысли, которую, вероятно, имел в виду автор. В первом случае, вроде как, триумф воли. Во втором же – подкрадывание к запретному, к неведомому и разрушение детской иллюзии восприятия реальности и замена её юношеским фантомом. Иными словами, не достаточно прочувствован и логически обоснован ход авторских мыслей. Об экологическом пафосе – это, конечно, зря. Это, в общем, вкусовщина. Не стоит упрекать народ и рупор этого народа, которым однажды великодушно подарили парочку урановых грибов на долгую память, в нагнетании природоохранной патетики. Кто мы такие, в конце концов? Все фобии исторически обоснованы и имеют самое непосредственное право на существование. Финал с предчувствием скорого обрыва – тривиальная слегка страшилочка, которая, кстати сказать, не вторит настроению последнего сна Куросавы о безмятежной, бессуетной, ироничной старости. Сон этот, пока суд да дело, выпадает из поля зрения автора. Думается, что напрасно. Идейно текст разобщён, весомого смыслового ядра не наблюдается, но аналитическое начало всё же наличествует и даёт о себе знать несколькими занятно поданными идейными выплесками, которые сложно заподозрить во вторичности. Однако, как говаривал неяпонский поэт – только этого мало… Чёрная королева Форма\Структура Снов, определённо, многовато на стартовой прямой. «Станцевать цветущий сад». Фильм смотрел, потому - понятно, о чём речь, хоть и резанул подобный лексический выверт. А вот тем, кто незнаком с сюжетной подоплёкой, как поступать? «Затейливая образность» - пустоватое словосочетание, которое, мало о чём сообщает. «Загадочная японская душа»… Интересно, есть в мире нации, чьи коллективные души не представляются загадочными? И можно ли ответить на этот вопрос так, чтоб совсем без расизма и прочего шовинизма? Есть по тексту мелкие несогласованности и речевые заусеницы. Кажется, что текст был отчего-то написан в спешке и различного рода шероховатости оставляют неприятный осадок. Иногда мерещится, что предложения искусственно разорваны с неведомой целью. Наблюдается двойное упоминание Ван Гога и его полотен в разных абзацах, смысл которого не понятен. В целом же фирменный, вдохновенный авторский стилевой колорит ощутим не сразу, а где-то ближе к середине сочинения. Но зато потом – стиль захлёстывает, и когтями зимней ведьмы вырывает причитающуюся ему долю читательского внимания. Содержание\Идея Испаньщина в заголовке кинорецензии на полотно классика японского кино – категория из другой смысловой и культурной вселенной. Причём никаких чётких связок с киноканвой не усматривается, поскольку фраза настолько истаскана и потёрта, что можно её прицепить куда угодно: хоть к фильму «Куда приводят мечты», хоть к «Матрице». Разницы не будет ровным счётом никакой. Ещё один лёгенький баянчик, поданный с налёту – про сон разума, чудовищ рождающий. Ну – ок, пусть так, однако авторское разделение на европейцев и восточноазиатов по признаку присутствия притчевой мудрости, гравюрной тонкости у одних и отсутствия у других предельно поверхностно, легковесно и не подкреплено ни одним логическим основанием. «Раздумья о судьбе своей маленькой страны в огромном мире». Где оно? В каком эпизоде? Как видится, Куросава в «Снах» не рассматривает Японию отдельно от мирового контекста, или мировой контекст отдельно от Японии. Нет ни сравнений, ни противопоставлений, ни каких-либо убедительных препровождений непосредственно к фильму, потому тезис считаем бездоказательным. «Японское мышление свободно от смысловой иносказательности европейской традиции». Постойте-ка. А как тогда быть с «непременной притчевой мудростью» Востока в первом абзаце? Притча – это же всегда иносказание. Вышло веское и досадное логическое противоречие. Четыре возрастных этапа? Это какие? И как они представлены в картине мэтра Акиры? Думается, их там всё же два. В любом случае следовало раскрыть авторскую мысль. Трактовка первого сна убедительная, яркая, образная. Вот если бы всё написанное выглядело так… Автор с первых своих слов отделяет европейскую «традицию сна» от восточно-азиатской. Но далее по тексту упорно использует христианскую терминологию для толкования символики японского кинохудожника: «чистилище», «рай». Казалось бы, следовало анализировать продукт, созданный этническим японцем, воспитанным в традициях синто и дзен-буддизма, с помощью соответствующих религиозных понятий. Или же вовсе не пытаться подходить к анализу с указанного ракурса. Однако дальше – больше. «С учением дао (!), близким загадочной японской душе (!)». Ошибка наигрубейшая. Всё равно, что приписать загадочной русской душе – близость к заветам Аллаха и шариату. Китай и Япония и, соответственно, их верования – это даже не как Россия и Чехия, а, скорее, как Исландия и Босния - крайне далеки друг от друга. Отчасти связаны лишь посредством буддизма. Религиозные корни многих снов-посланий Куросавы, безусловно, просматриваются и кое-где очень чётко различимы, но имеют они примерно такое же отношение к даосизму, как Гарри Поттер к Толкиену. Напрашивается невесёлый вывод: зря автор, вообще, коснулся религиозных аспектов. «Человек убивает природу, оставляя… горящие огнём склоны Фудзи». Человек, конечно, подлец, но Фудзи-таки извергается периодически без его помощи. Фукусиму, естественно, грех было не помянуть – актуальность, можно считать, выведена. «Вполне конкретно адресует обвинения людям власти, что обрели в его аллегоричных фантазиях уродливый облик демонов, осуждённых на вечные муки». Тут спорно. Ведь у Куросавы иерархия. Двурогие демоны, с большой долей вероятности - бывшие люди власти, потребляют в пищу – более мелких обывателей, однорогих бесов. Поэтому можно заключить, что вина всё же лежит на всех, от мала до велика, с символичным сохранением прежней социальной структуры только в уродливо-фантасмагоричной форме. Фактологический ляпсус: эпизод «Тоннель» придумал и снял не «штатский» Куросава, а ветеран Великой азиатской войны - Исиро Хонда. Оппонент, между прочим, сие отметил. Последние три абзаца – определенно, лучшее, что есть в рецензии. Трактовки красочные, живые, с уместными отсылками к биографии японского мастера. Внешняя инородность сна про Ван Гога – очень удачно подмечена, но, увы, не раскрыта. Об экспорте Японии Куросавой – выразительно получилось. Не ново совершенно (поскольку доподлинно известно, что Куросава – главный «экспортёр» страны Восходящего Солнца), но, кажется, что очень даже к месту. Концовка с колоритной игрой слов, точнее, игрой снов, безусловно, приятный, удачно выделяющийся на фоне предшествующего текста штрих. В общей сложности имеет место идейный разброс с не выдерживающими никакой критики, плавающими в фактологии и терминологии введением и основной частью и возвышенным финалом, посвящённым вечности искусства и искусства в вечности, которому под силу пересечь черту смерти. Вне всякого сомнения, затронут достойный всяческого внимания и всяческого разбора идейный механизм. Жаль только, что автор не посвящает своё сочинение исключительно ему одному и не вытаскивает из этого механизма смысловые шестерёнки, нанизывая их на нить фабулы «Снов» и собственной фантазии. Возможно, удалось бы избежать множественных ошибок, которые фактически перечеркнули собой впечатление от первой половины текста. Может в иные времена, это и простительно. Но во всяком случае не для финала ЧРКП, где ожидалось увидеть, прежде всего, высококачественное киноведение. _______________________ Не то, чтобы всё вышесказанное являлось субъективным приговором финальному раунду соревнования. Отнюдь. Были меткие мысли, были острые замечания, были колоритные стилевые родимые пятна, но в собственное представление о том, какими подобает быть качественным кинокритическим заметкам на произведение одного из десятки наиболее влиятельных кинематографистов всех времён и народов, авторские работы не уложились. Количество фактических ошибок второго текста всё же считаю абсолютно недопустимым. Это же венец многомесячного противостояния. А глобальная сеть, благо, всеобщее достояние. Написание текстов на полотна художников такого масштаба не просит, а требует кропотливого изучения и их творчества, и источников, сопряженных с тематикой кинокартины. Технически засчитываю победу за полуимпрессионистским эскизом намбер уан, который так же грешит недочётами, но всё же выдерживает проверку на достоверность и не столь насыщен откровенными нестыковками и упущениями. Констатирую напоследок, что всё же Чемпионат задал необычайно высокую планку. Работ прекрасных было сочинено множество. Возможно, авторы выдохлись. Возможно, Куросава промчался сумрачным лесом. Возможно, детальный разбор кинорецензий - от лукавого. Возможно, комментатор предвзят до мозга костей. Но явленный уровень заставляет лишь пожать плечами, а представленные тексты уступают в качестве большинству прошлых сочинений финалисток. Во истину жаль. Погрузиться в нирвану не получилось, обнаружить заветную Шамбалу не удалось.
-
Спасибо за комментарии, оценки и поддержку, товарищи форумчане. Спасибо, если кто-то болел, но это тщательно скрывал) Вдвойне спасибо тем, кто, болея, сообщил о «болении». Как ни крути, всё-таки приятно. Извиняюсь, как говорится, что не оправдал ожиданий. Читать вас было занимательно, местами очень даже интересно, не особенно полезно с практической точки зрения (критика, вообще, редко способна что-то изменить в авторском стиле и самоподаче, а с качественной критикой на Чемпионате была на этот раз лютейшая напряжёнка, чего уж скрывать), но, скажем так, по большей части весьма прикольно. Остро не хватало таких комментаторов, как Аррмен (единичное появление - факт приятный, но не в счёт), Меф, Аматер44 и Угар. В качестве обстоятельного, въедливого и внимательного критика чужой кинокритики радовал, пожалуй, только Чероки. Полагаю, что идея анонимности в целом благотворно сказалась на системе оценивания. Являюсь её давним сторонником, посему реализации этого принципа искренне порадовался. Считаю, что все риски недооценки или подозрения в недооценке отпадают, даже несмотря на то, что авторская стилистика отдельных рецензентов часто себя выдаёт. По своей последней работе могу лишь сказать, что оценена она даже выше, чем сам бы её оценил. Считаю её крайне слабой, одной из слабейших своих. Думаю, не только рецензия Вики, но и рецензия Димы – куда ярче по стилевой окраске, выразительнее, эмоциональнее и в конечном счёте – честнее. Острое приятие или острое неприятие - всегда честнее и экспрессивнее, чем отстраненное (как правильно заметил Поручик) одобрение. Опечален чрезвычайно невыходом в финал Виктори. Последняя работа, да и большая часть написанного показали, что этого более, чем достойна. Что до финалисток, то от себя замечу, что обе, несомненно, заслужили выход в завершающий раунд, но по различным основаниям. Две последние работы ЭмДжей – прекрасные образцы кинорецензирования и наглядная демонстрация творческого роста. Не скрою, что мне отнюдь не были по душе её первые работы. Но последние две не вызывают ровным счётом никаких сомнений в мастерстве и прочих нареканий. Что касается Светы, то здесь – обратная ситуация. Был в большом восторге от её первых работ в рамках Турнира и разочарован двумя последними. Особенно той, что на Герца Франка – по причине означенного острейшего несоответствия гуманистического посыла кинопроизведения документалиста с настроением авторского обзора, который получился, на мой взгляд, текстовым воплощением идеологии андроповщины и психологической моделью мировосприятия человека в синей форме, что было и неприятно, и неожиданно. Перед глазами почему-то образ балабановского Журова замаячил и сцена расстрела героя Алексея Серебрякова с вычетом из зарплаты осужденного расходов на пулю и палача. Но то личное, так что оставим. В любом случае, глас народа – глас божий, поэтому - мои поздравления. И высочайшего качества первых работ Каори всё сказанное ни в коей мере не умаляет. Финал постараюсь откомментировать, если есть ещё к этому интерес, конечно, потому как придирчивость будет запредельной, поскольку финал, он, на то и финал. Теперь традиционные личные топы. Личный топ комментаторов: 1). Чероки Каори Орандж Виктори Эм-Джей Личный топ «неофитов» конкурсного раздела по критерию качества кинорецензий: Лунди Пампкин Ситл Ламора Чеширский пёс Кристина D Личный топ рецензий Чемпионата: Виктори Сало, или 120 дней Содома Каори Урга Лунди Иваново Детство Каори Жить Орандж Забытые Троллинг 12 Пампкин Отвязные каникулы Ситл Лурд Виктори Большая жратва Сисеро Дуэлянты Орандж Высший суд Троллинг Нож в воде Виктори Чунгкингский экспресс Спасибо за хорошую игру, дамы и господа. Финалистам – удачи и всяческих успехов в последнем бою. По возможности и наличию времени, в мелких конкурсах с интересующей меня тематикой поучаствовать не откажусь, коли будет на то воля организатора. В событии, схожем по масштабу и временным затратам с ЧРКП, если таковое будет, теперь уже совершенно определённо принять участия не смогу. Благодарю за внимание. Ну, а Славе – большое спасибо за всё. За "нечеловеческий" альтруизм, за энергию и за самоотдачу.
-
Вайнона Безысходность Нетривиальный подход к рецензированию Полански, во главу угла ставящий кинематографические приемы и прочие визуальные изыски польского новатора и в меньшей мере уделяющий внимание сущностной стороне вопроса. Содержательная составляющая «Ножа», согласно авторскому суждению, сводится к «выпендриванию двух мужиков», что неплохо бы смотрелось на страницах глянцевого «Космополитана». Подобное бытовое сужение несколько озадачивает, поскольку ограничивает смысловой лейтмотив произведения до размеров узкобытового спектакля. Тогда как великое множество представителей критического сообщества и фестивальщиков разглядели там нечто большее. Да и в общем, оно там не слишком глубоко плескается. И без акваланга донырнуть возможно. Впрочем, авторский уклон в сторону минимализма тем и оригинален, что не зацикливается на повторяющихся попытках погрузиться в идейные глубины и выжать из плёнки все соки, а предпочитает чрезвычайно эстетично и изящно скользить по поверхности, следуя примеру двух Кристин – яхты и девушки. Герои презентованы – ёмко, колоритно, даже исчерпывающе. Авторское слово - меткое, хлёсткое, ясное. Магия кадра передана красноречивейшим образом – очень показателен авторский акцент на том, как Полански ловит ракурсы парусной лодки. Слегка тавтологично смотрятся однокоренные, следующие почти друг за другом прилагательные - «белобрысый» и «белоснежная». Сравнение с «Жизнью Пи» хоть и прорубает своеобразную тропу в современность, но кажется довольно-таки натужным. С предсказуемостью концовки готов поспорить, но то дело вкуса. По факту Полански ломает стереотип. Пресловутое чеховское ружье не стреляет, а тонет. Это ли не прорыв шаблонов паном Романом? Про причины неприятия картины на Родине - очень вскользь и, скорее, неубедительно. Главная сущностная отличительная черта рецензии – пористость при выверенной стилевой окраске. Рецензия – Виспа. Питательна весьма, но вот ценный фундук в ней – штука нечастая. Так или иначе, в добрый путь. Микки Незнакомцы в лодке В авторском восприятии – бытовая компонента фильма так же превыше всего остального. Под идейным микроскопом анализа рецензента – семья, как ячейка общества, и её кризис. Слог, как основа. Насыщенный эпитетами, богатый на сравнения, присыпанный метафорами. Не ускользает от авторского внимания и социальный слой проблемы, продемонстрированной Поланским. Впрочем, что-что, а классовые противоречия у режиссёра, если не на последнем, то на одном из последних мест. Видимого искушения же завладеть чужой собственностью «неблагонадежный» студент, вроде бы, не демонстрирует вовсе. Тут, вероятнее, имеет место демонстрация презрительного отношения со стороны респектабельного «морского волка» к неказистому имуществу бродяги-автостопщика. Анализ отношений внутри треугольника выдался чрезвычайно тщательным, кажется даже немного излишне, из-за чего ускользают из ракурса авторского обзора иные прелюбопытные детали (социобиология, альфа-самец и прочий дарвинизм), на которых автор было приостановился, но как-то очень уж быстро проскочил мимо. Рецензия – инь\ян. Могучая, бодрая, волнующая. Но с преобладанием одного – сугубо мелодраматического аспекта. Впрочем, всё сказанное бьёт, если не совсем в яблочко, то где-то около того. Направление же стрельбы, как известно, дело сугубо авторское. Тильда Лодка, озеро, нож Авторская ирония, рысью бросающаяся на читателя, сходу настраивает на пограничную волну восприятия, полусерьезную, полушутливую, что резким контрастом выделяется на фоне остальных кинорецензий, навеянных картиной Полански. Многоаспектность и вариативность авторского прочтения социальной драмы-триллера польского кинематографиста, с одной стороны, не позволяет заскучать за процессом ознакомления с работой, с другой же – лаконично вскрывает максимально возможное количество смысловых пластов, утрамбованных в семьсот словес. Стартуя как препарирование полуанекдотического ситкома, текст набирает обороты всё настойчивее, а к финалу таки просто подводит к общечеловеческим, глобально-философским трактовкам, которые в силу извечной гигантомании своей комментатор ожидал с нетерпением. Языковая броскость здесь гармонично сочетается с мыслями предельно не заурядными, взять хотя бы перефразирование Набокова, от которого веет свежим ветром и глубоким проникновением в киноматериал. Причины неприятия фильма польской партноменклатурой представлены более чем наглядно, более чем выразительно, более чем оригинально. Два последних предложения предпоследнего абзаца вкупе с финалом считаю стилистически-аналитическим Эверестом, до которого карабкаться надо долго и упорно. Рецензия – гора. Восшествие на которую – череда интеллектуальных подъемов и эстетических скачков. Один из мощнейших текстов чемпионата. Закольцованность Набоковым от названия до «титров» - почерк аса. Джонни Клин Крайне выразительная, выверенная с различных точек зрения работа. Основная ценность – передача ритма, фона и атмосферы фильма Полански. Отсылки к эпизодам, оформленные в виде метафор, придают кинорецензии технического благолепия, авторский взгляд ни разу не цепляется за что-то ненужное, лишнее. Разве что в конце, где как-то слегка неуместно выпирает деталь о том, что яхта некогда принадлежала наци № 2. Ведь по большому счёту работа Полански вне истории и вне политики. Автор глубоко анализирует киноматериал, ищет и находит сокрытые от глаз детали смыслового механизма. Рецензия – зеркало, поставленное перед киноэкраном. Проекция фильма Полански. Прошу прощения за краткость. Крайне спешил. Думается, претендента на финал 2. Третья и четвертая работа. От всей души желаю их авторам удачи. Первые две рецензии – тоже прекрасные, но всё же, как по мне, менее глубоко прониклись смысловой тканью произведения Полански, в большей степени ориентировались непосредственно на контекст и фабулу, а не пытались искать и отображать подтексты. Так или иначе, достойнейшие работы достойнейших игроков полуфинала, каждый из которых явил Чемпионату несколько блестящих работ. За что – честь и хвала, поздравления и рукопожатия.