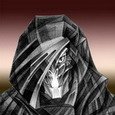-
Сообщений
25 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Репутация
0 Neutral-
Смехнова была очень красива, очень необычна, предельно сексуальна. В нее - тогдашнюю - я был прямо влюблен.
-
Нетактичны и глумливы только дочери. Родители ведут себя вполне интеллигентно.
-
Большое спасибо, Olenenok999, что прочитали мой отзыв о фильме и высказали свое мнение!
-
Как хорошо, что этот фильм тут обсудили. Он действительно заставляет о многом задуматься.
-
Соглашусь, пожалуй со всем. Очень точные наблюдения.
-
Признаться, мне мало интересно обсуждать персонаж кинофильма как живого человека: "отчего Ольга такая?". По моему мнению, Ольга такая потому, что такой ее вывел сценарист, такой "поставил" режиссер, и такой воплотила актриса. А вот почему эти трое создали именно такую героиню - это и есть самое интересное.
-
Воля Ваша, мадам, но советский фильм - если он стоящий - вообще очень трудно рассматривать вне исторической ситуации и идеологического контекста. Это не сколько политика, сколько историография.
-
"Иван Васильевич" меняет эпоху Пьеса Михаила Афанасьевича Булгакова «Иван Васильевич» не вошла в зрительское сознание как театральная постановка, ибо спектакля под таким названием так и не состоялось. Миллионы знают эту вещь под немного другим названием – «Иван Васильевич меняет профессию». Запрещенную когда-то пьесу великого драматурга обессмертил не театр эпических «Ивана Васильевича и Аристарха Платоновича» (см. булгаковский же «Театральный роман»), а выдающийся мастер советской эксцентрической кинокомедии Леонид Гайдай. И при сотом просмотре замечательной картины (можно смотреть вовсе без звука – текст давно выучен наизусть) трудно удержаться от смеха: остроумный сюжет, трюки, гэги, комические реплики, вошедшие в бытовую речь. Но если на секунду отвлечься от динамичного, почти циркового зрелища, и оттолкнуться от того, что легшая в основу сценария пьеса сочинена не в 70-х, а в 30-х годах, то на все действие начинаешь смотреть другими глазами. Гениальный Булгаков знал, о чем писал. Недаром в его пьесе в Москву тридцатых годов XX века является из Средневековья русский царь-душегубец. Ибо настоящий Иосиф Грозный, давно избравший Ивана IV своим кумиром, к тому моменту прочно воцарился в Кремле, и уже вовсю и повсеместно реют черные хоругви опричников из НКВД. И если кто не верит, что заурядный и недалекий управдом Бунша незаметно превратился в Грозного русского царя – так ему же хуже. Как не верит пока что «покровитель искусств» Бухарин, что унылый секретарь ЦК с нелепой кличкой «Коба» обернулся всесильным Генеральным секретарем-самодержцем, от удара железного посоха которого вот-вот содрогнется одна шестая часть суши и еще полмира впридачу. Булгаковский «шифр» поняли многие, в том числе цензура, и пьеса так и не увидела сцены. «Смещение эпохи» многое объясняет. Помните фразу сокрушенного ограблением соседа-стоматолога Шпака: «Всё, всё что нажито непосильным трудом...»? На экране она звучит не очень смешно: можно спорить, насколько непосилен труд зубного врача, но, во всяком случае, он вполне уважаем, и осмеянию не подлежит. В чем же дело? Ларчик открывается просто: по пьесе, противный Шпак вовсе не дантист, а совслужащий, классический чинуша-лицемер. Вот и становится обоснованной убийственная булгаковская ирония по поводу «непосильного труда» бездельника на ответственном посту. А как не проникнуться симпатией к благородному вору Жоржу Милославскому (несомненно, «двоюродному брату» Степы Лиходеева из достославного «Варьете»), невозмутимо игнорирующему и обворовывающий любую власть – от советской до царской? На фоне остальных персонажей – от замученного советским образом жизни инженера Тимофеева, до потерявшего всякие ориентиры, в ужасе бормочущего слова забытой молитвы «Иже херувимы...» режиссера Якина, – лишь Жорж выглядит в пьесе (надо заметить, более чем в фильме) по-настоящему свободным человеком. Так что, напрасно голосили стрельцы: «Царь ненастоящий!». Вполне он был настоящий.
-
А Смехнова и Удовиченко в фильме - это не просто гламур, это фонтан сексапильности!
-
Я бы назвал не гиперболизацией, а "заострением". А насчет Резо я пишу: "влюбленность", а не "любовь".
-
«Идиот» в советской Москве Фильм «Дочки-матери» для меня ясно и четко ассоциируется с романом Достоевского «Идиот» (ну, и с фильмом, если хотите). Каков посыл «Идиота»? В буржуазном Петербурге позапрошлого века пояляется человек, который в буквальном смысле исполняет все христианские заповеди. В обществе обычных людей ему неуютно, он совершает череду нелепых поступков, и кончается всё трагично. Что мы видим в фильме Сергея Герасимова? В Москву середины 70-х приезжает девушка, которая в буквальном смысле придерживается всех заповедей коммунистического человека. (Был такой «Моральный кодекс строителя коммунизма», если кто помнит – попытка идеологов от КПСС сочинить новую этику). Но если христианские поступки князя Мышкина лишь невольно и опосредованно приводят к трагическому концу, то антихристианская этика («анти-этика») Оли Васильевой – разрушительна изначально, хотя по воле авторов кинокартины поступки Оли не ведут к столь печальному финалу. Ольга – этот советский лже-«идиот», – с грациозностью слона в посудной лавке громит и разушает все, к чему прикасается вокруг: едва не рушит устойчивое семейное благополучие московских интеллигентов старой закваски, у которых гостит, проходится кованным уральским сапогом по рефлексии Вадима Антоновича, практически уничтожает чистую влюбленность Резо... Великолепная, совершенно нетипичная для советского кинематографа тех времен актриса Любовь Полехина уверенно воплощает девушку с деревянной пластикой, немодулированным голосом – робот, да и только! И только монументальный Петр Никанорович (недаром умница Резо предваряет его появление пушкинской строфой: «...Петр! Лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен!..») в течение одной секунды разгадывает зомбированную девушку, и тоже дарит ей классическую строку (из почти запрещенного, между прочим, Гумилева): «Ольга, Ольга! – вопили древляне». Если кто позабыл – равноапостольная княгиня Ольга, столь любимая в православном пантеоне, с неслыханной жестокостью – не очень-то по-христиански, между прочим, – расправилсь когда-то с парламентерами древлянского племени – просто сожгла их живьем в бане. Вот такая ирония судьбы, вот такая историческая проекция безжалостной Оли с Урала. Образ главной героини, который, казалось бы, должен внушать симпатию и служить примером (как водилось в кинематографе советской эпохи) – довольно быстро начинает внушать зрителю такое отвращение, что удивительно, что такой образ – со всеми возможными трактовками – лег в сюжет советского фильма. Антипатия деликатных москвичей к Ольге столь велика, что она не только пронизывает зрителя, но и прорывается в саму сюжетную ткань: дочери интеллигентной московской пары, гламурные (как бы сказали сегодня) девушки Аня и Галя громким шепотом (таким театральным шепотом, какой бывает слышно до галерки), спрашивают друг у друга: «Она что, идейная, или просто дура?!!». Думается, такую реплику не пропустила бы цензура ни у кого из тогдашних режиссеров, кроме великого Герасимова. Как представляется, действие этого фильма должно было кончаться отъездом Оли из Москвы: все плохое, что мог сделать этот мессия лживых, провалившихся ценностей, сделано, и добавить тут нечего. Но... Мне неизвестны обстоятельства съемок фильма и написания сценария. Но у меня есть большое подозрение, что последняя часть картины – возвращение Ольги в свое свердловское общежитие, и ее тамошние «комсомольские дела» – снята по требованию идеологических органов лишь для того, чтобы как-то «спасти» совершенно кошмарный образ героини, призванный, казалось бы, быть идеологически-положительным, и поместить ее в свою собственную среду, где она хоть как-то может себя «обелить». Возможно, это было уступкой цензуре со стороны сценариста. И недаром в середине картины звучат первые (жаль, что лишь первые!) строки замечательного стихотворения самого Володина: Мы - самоеды, себя грызущие. Вам наши беды – потехи сущие. В праздничном зале нам не веселье – некстати встали, не к месту сели. Любовным нежностям не верим, где там! За что, мол? Не за что! Мы самоеды! Мы - самоеды. Стыдясь, скорбя, Не жрём соседа - едим себя. Я бы их поставил эпиграфом ко всему фильму. Оля с Урала тогда едва не сожрала их всех. До того, как это свершится – и уже не на экране, а в реальности, у нас всех на глазах – остается еще лет двадцать...
-
Дочки-матери Год: 1974 Страна: СССР Режиссер: Сергей Герасимов Сценарий: Александр Володин Оператор: Владимир Рапопорт Композитор: Станислав Чекин Художник: Петр Пашкевич Жанр: Драма, мелодрама. Премьера: 27 марта 1975 г. Хронометраж: 101 мин. / 01:41 В главных ролях: Иннокентий Смоктуновский Тамара Макарова Сергей Герасимов Любовь Полехина Лариса Удовиченко Зураб Кипшидзе Светлана Смехнова Елена Строева Синопсис: Молодая девушка Оля Васильева выросла в детском доме. Она никогда не знала своей матери и хочет её разыскать. Единственный след, который у неё есть — это сохранившееся письмо из личного дела её матери, которое она сумела раздобыть у администрации детского дома. На время краткосрочных каникул в её фабрично-заводском училище она едет из Свердловска в Москву по следам этого письма...
-
Оно конечно, да только культурные коды - они всеобщие, так что и алгеброй можно поверить гармонию
-
"Стараемся, создаем настроение" (с) Я люблю это фильм, хотя не в восторге от Дорониной - даже в этой картине, где она, в общем-то, органична и очень старалась